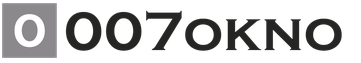В 1835 году написал Н. В. Гоголь первую повесть из цикла «Миргород» под названием «Старосветские помещики». Ее главными героями стали двое супругов, владевших большим хозяйством и проживших душа в душу много лет. Это произведение повествует о трогательной взаимной заботе персонажей, одновременно иронизируя над их ограниченностью. Мы приведем здесь краткое содержание. «Старосветские помещики» - повесть, которая до сих пор вызывает неоднозначные эмоции читателей.
Знакомство с главными героями
В одной из отдаленных деревень в Малороссии живут старички Товстогубы: Пульхерия Ивановна, серьезная на вид хлопотунья, и Афанасий Иванович, любитель подшутить над своей хозяйкой. Они владеют довольно большим хозяйством. Жизнь их тиха и спокойна. Каждый, кто заезжает в этот благословенный уголок, поражается тому, как все волнения бушующего мира перестают здесь довлеть над умами и душами людей. Кажется, что этот низенький барский домик, утопающий в зелени, живет какой-то своей особенной жизнью. Целыми днями в нем готовятся припасы, варятся повидло и наливки, желе и пастила, сушатся грибы.
Хозяйство старичков немилосердно обкрадывалось приказчиком и лакеями. Дворовые девки регулярно забирались в чулан и объедались там всевозможными яствами. Но здешняя плодородная земля всего производила в таком количестве, что хозяева совершенно не замечали хищений. Добрыми и простодушными изобразил главных героев Гоголь. «Старосветские помещики», краткое содержание которых здесь приведено - это ироничная повесть о старичках, весь смысл жизни которых состоял в поедании грибков и сушеных рыбок и постоянной заботе друг о друге.
Взаимная привязанность стариков
Афанасий Петрович и Пульхерия Ивановна не имеют детей. Всю свою нерастраченную нежность и теплоту они обратили друг на друга.

Когда-то, давным-давно, наш герой служил компанейцем, затем стал секунд-майором. На Пульхерии Ивановне он женился тогда, когда ему было тридцать лет. Ходили слухи, что он очень ловко увез ее от недовольных родственников, чтобы обвенчаться. Всю жизнь эти милые люди прожили душа в душу. Со стороны было очень интересно наблюдать, как они трогательно обращались друг к другу на «вы». Почувствовать прелесть безмятежной и спокойной жизни главных героев повести поможет вам ее краткое содержание. «Старосветские помещики» - это история глубокой сердечной привязанности и заботы о близких людях.
Гостеприимство старосветских владетелей
Очень любили эти старички покушать. Как только наступало утро, в доме уже пели на все лады скрипящие двери. Девки в полосатых исподницах бегали по кухне и готовили всевозможные кушанья. Пульхерия Ивановна ходила повсюду, контролируя и распоряжаясь, звеня ключами, беспрестанно открывая и закрывая многочисленные замки амбаров и чуланов. Завтрак хозяев всегда начинался с кофе, за ним следовали коржики с салом, пирожки с маком, чарка водки с сушеными рыбками и грибками для Афанасия Ивановича и так далее. А как гостеприимны были эти милые и добрые старички! Если приходилось у них задержаться какому-нибудь человеку, его ежечасно потчевали лучшими блюдами домашней кухни. Хозяева с вниманием и удовольствием слушали рассказы странников. Казалось, что они жили для гостей.

Если вдруг проезжающий мимо и навестивший старичков человек поздним вечером вдруг собирался в дорогу, то они со всем жаром принимались его убеждать остаться и переночевать у них. И гость всегда оставался. Наградой ему были обильный, источающий ароматы ужин, радушный, согревающий и вместе с тем усыпляющий рассказ хозяев дома, теплая мягкая постель. Таковы были эти старосветские помещики. Очень краткое содержание данной повести позволит понять авторский замысел и составить представление об образе жизни этих тихих, добрых обитателей дома.
Смерть Пульхерии Ивановны
Жизнь милых стариков была безмятежна. Казалось, что так будет всегда. Однако вскоре с хозяйкой дома приключилось одно происшествие, имевшее для супругов трагические последствия. У Пульхерии Ивановны была беленькая кошечка, о которой добрая старушка очень заботилась. Однажды она пропала: сманили местные коты. Через три дня беглянка объявилась. Хозяйка тут же распорядилась дать ей молока и попробовала приласкать животное. Но кошечка дичилась, и когда Пульхерия Ивановна протянула к ней руку, неблагодарное создание бросилось в окно и убежало. Больше кошечки никто не видел. С этого дня милая старушка стала скучна и задумчива. На вопросы мужа о ее самочувствии она отвечала, что предчувствует скорою смерть. Все попытки Афанасия Ивановича развеселить супругу заканчивались неудачей. Пульхерия Ивановна все твердила о том, что это, видимо, смерть за ней приходила в образе ее кошечки. Она настолько себя убедила в этом, что вскоре слегла и по происшествии некоторого времени действительно скончалась.

Но на этом не заканчивает свою повесть Гоголь. «Старосветские помещики" (краткое содержание здесь приводится) - произведение с трагическим финалом. Посмотрим, что дальше ждет осиротевшего хозяина дома?
Одиночество Афанасия Ивановича
Покойницу обмыли, обрядили в приготовленное ею самой платье и положили в гроб. Афанасий Иванович на все это смотрел безучастно, как будто не с ним это все происходило. Бедняга все не мог оправиться от такого удара и поверить в то, что его дорогой любимой женушки больше нет. Лишь когда могилу сравняли с землей, он вырвался вперед и произнес: «Вот уж и погребли? Зачем же?» После этого одиночество и тоска с головой накрыли веселого некогда старичка. Придя с кладбища, он громко рыдал в комнате Пульхерии Ивановны. Дворовые стали переживать за то, как бы он с собою что-нибудь не сделал. Первое время они прятали от него ножи и все острые предметы, которыми он мог себя ранить. Но вскоре они успокоились и перестали следовать за хозяином дома по пятам. А он тут же достал пистолет и выстрелил себе в голову. Его нашли с размозжённым черепом. Рана оказалось несмертельной. Вызвали доктора, который поставил старичка на ноги. Но как только домашний люд успокоился и вновь перестал следить за Афанасием Ивановичем, тот бросился под колеса экипажа. Ему повредило руку и ногу, но он опять остался жив. Скоро его уже видели в многолюдном зале увеселительного заведения играющим в карты. За спинкой его кресла стояла, улыбаясь, его молодая жена. Все это были попытки заглушить щемящую тоску и скорбь. Почувствовать всю безнадежность, овладевшую главным героем повести, можно, даже прочтя ее краткое содержание. «Старосветские помещики» - произведение о безграничной нежности и привязанности людей, проживших вместе всю жизнь.
Печальный финал
Спустя пять лет после описанных событий автор возвратился в этот хуторок, чтобы навестить хозяина дома. Что же он увидел здесь? В некогда богатом хозяйстве царит запустение. Избы мужиков почти развалились, а сами они спились и числились в большинстве своем в бегах. Изгородь возле барского дома почти упала. Везде чувствовалось отсутствие хозяйской руки. А самого владельца дома теперь было почти не узнать: он сгорбился и ходил, еле передвигая ноги.

Все в доме напоминало ему о заботливой хозяйке, покинувшей его. Часто он сидел, погрузившись в свои мысли. И в такие минуты по щекам его текли горячие слезы. Вскоре и Афанасия Ивановича не стало. Причем кончина его имеет нечто общее с кончиной самой Пульхерии Ивановны. Однажды летним солнечным днем он гулял по саду. Вдруг ему почудилось, что кто-то окликнул его по имени. Убедив себя в том, что это была обожаемая им покойная супруга, Афанасий Иванович стал сохнуть, хиреть и вскоре умер. Похоронили его рядом с женой. После этого в поместье приехал какой-то дальний родственник стариков и принялся «поднимать» упавшее хозяйство. За несколько месяцев оно было пущено по ветру. Таково краткое содержание рассказа «Старосветские помещики». Финал произведения печален. Эра безмятежности безвозвратно ушла в прошлое.
Мы познакомились с одним из рассказов В. Н. Гоголя. Здесь приведено его краткое содержание. «Старосветские помещики» - одно из любимых публикой произведений великого классика уже многие десятилетия.
Повесть «Старосветские помещики» Гоголя, написанная в 1835 году, входит в сборник «Миргород». Произведение имеет мало общего с яркими, сказочно-фантастическими сюжетами из предыдущего сборника писателя «Вечера на хуторе близь Диканьки». В повести описывается жизнь и смерть двух стариков.
Главные герои
Афанасий Иванович Товстогуб – хозяин небольшого богатого поместья, гостеприимный хозяин.
Пульхерия Ивановна Товстогуб – его супруга, женщина очень добрая, мягкая, хозяйственная.
Рассказчик, в котором легко угадывается Николай Васильевич Гоголь, предается воспоминаниям о двух старичках « прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет ».
Афанасий Иванович Товстогуб и его супруга Пульхерия Ивановна ведут « скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими ». Ничто не нарушает привычный ход их спокойной размеренной жизни, такой тихой, что погрузившись в нее, понимаешь – на свете нет места ни печалям, ни разочарованиям.
Афанасию Ивановичу – шестьдесят лет, Пульхерия Ивановна моложе своего супруга на пять лет. На лице Товстогуба почти всегда играет легкая улыбка, независимо от того, рассказывает он что-либо или просто слушает. Жена его, напротив, женщина серьезная, которую крайне сложно рассмешить. Но в лице и глазах ее « написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего », что улыбка на этом славном добром лице была бы уже слишком слащавой.
По лицам обоих супругов можно с легкостью прочесть всю их жизнь – ясную и спокойную, не отягощенную сильными душевными страданиями или дурными поступками. Детей у них никогда не было, и всю силу своей любви и сердечной привязанности они направляют друг на друга.
Маленькие низенькие комнаты в их доме заполнены всевозможными вещицами, и в каждой из них расположена большая печь – старики очень любят тепло.
Афанасий Иванович практически не занимается хозяйством, и « все бремя правления » лежит на его дражайшей супруге. Ежедневные обязанности Пульхерии Ивановны заключаются « в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений ».
В « прочие хозяйственные статьи вне двора » Пульхерия Ивановна не вмешивается, чем пользуется наглый приказчик, безбожно обкрадывающий супружескую пару. Но благословенная земля дает такие богатые урожаи и « производит все в таком множестве », что « что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве ».
Для Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановна единственной сильной их страстью является любовь к еде. В течение дня, помимо основных приемов пищи, они беспрестанно что-то перекусывают.
Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна буквально преображаются с приходом гостей. Они стараются всячески угодить и угостить самым лучшим, что только уродило их хозяйство. При этом гость ни в коем случае не отпускается восвояси того же дня – « он должен был непременно переночевать » в доме радушных хозяев.
Тихой чередой идут мирные дни супружеской пары, живущей в необыкновенной гармонии. Но однажды их привычный уклад нарушается одним непримечательным событием. Дикие коты сманивают в лес домашнюю серую кошечку – любимицу Пульхерии Ивановны. Спустя три дня беглянка возвращается, чрезвычайно худая и изможденная. Она отъедается у доброй хозяйки, но, не дав той погладить себя, выскакивает в окно. Бедная женщина уверена, что это смерть ее приходила за ней, и она непременно умрет этим летом.
Пульхерия Ивановна делится своим предчувствием с супругом, и переживает лишь о том, что некому будет за ним ухаживать. Он наказывает своей ключнице следить за паном и беречь его, « как глаза своего, как свое родное дитя ». Полная уверенность женщины в своей близкой кончине « так была сильна и состояние души ее так было к этому настроено », что спустя несколько дней она умирает.
Афанасий Иванович поражен – он не осознает, что происходит, и глядит на все бесчувственно. Но, придя после похорон в пустой дом, он рыдает сильно и безутешно, и слезы, словно река, льются из его тусклых глаз.
Спустя пять лет после печального события рассказчик вновь приезжает в знакомый дом. Он поражается той разрухе, что царит во дворе. Хозяин так и не смог свыкнуться с потерей любимого человека: он стал рассеян, задумчив, неряшлив.
Однажды, гуляя по саду, Афанасий Иванович слышит, будто кто-то зовет его по имени, но никого не видит вокруг. Тогда он понимает, что это Пульхерия Ивановна зовет его к себе. Покорившись своему убеждению, он « сохнул, кашлял, таял как свечка и наконец угас ». Все, что он успел перед своей кончиной – попросить похоронить рядом с супругой.
После смерти супружеской четы их имущество было растащено ключницей и приказчиком. Неизвестно откуда взявшийся дальний родственник окончательно пустил по ветру нажитое долгими годами добро Товстогубов.
Заключение
Несмотря на всю примитивность бездуховного и пустого существования старосветских помещиков, Гоголь с большой любовью относится к ним. В них он видит ту чистоту, любовь и доброту, без которых человек не может чувствовать себя по-настоящему счастливым.
После ознакомления с кратким пересказом «Старосветских помещиков» рекомендуем прочесть повесть Гоголя в полном объеме.
Тест по повести
Проверьте запоминание краткого содержания тестом:
Рейтинг пересказа
Средняя оценка: 4.1 . Всего получено оценок: 95.
Афанасий Иванович Товстогуб и его жена Пульхерия Ивановна - двое старичков «прошедшего века», нежно любящих и трогательно заботящихся друг о друге. Афанасий Иванович был высок, ходил всегда в бараньем тулупчике, и практически всегда улыбался. Пульхерия Ивановна почти никогда не смеялась, но «на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица».
Николай Васильевич Гоголь
Миргород. Часть первая
Старосветские помещики
Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, - все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь.
Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, - и ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу.
Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностью, что художник, верно бы, украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о, слог въ. Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии.
Николай Гоголь
Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, – все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь.
Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, – и ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу.
Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник, верно бы, украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о , слог въ . Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии.
Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты , но всегда вы ; вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» – «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих. Когда-то, в молодости, Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд-майором, но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол; он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него; но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил.
Все эти давние, необыкновенные происшествия заменились спокойною и уединенною жизнию, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу.
Он всегда слушал с приятною улыбкою гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.
Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, прозябнувши от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая в ладоши. Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой Петра III. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержавшийся с такою опрятностию, с какою, верно, не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее.
Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветною шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетие, были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится.
Но самое замечательное в доме – были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет, – но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно наконец слышалось: «батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрып дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей… и Боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!
Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были все с высокими выточенными спинками, в натуральном виде, без всякого лака и краски; они не были даже обиты материею и были несколько похожи на те стулья, на которые и доныне садятся архиереи. Трехугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц, – вот все почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики.
Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большею частию бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостию держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке, с босыми ногами, и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос; но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черною тучею весь потолок.
Конец ознакомительного фрагмента.
Камлот – шерстяная ткань.
Компанейцы – солдаты и офицеры кавалерийских полков, формировавшихся из добровольцев.
Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, – все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь.
Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, – и ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу.
Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностью, что художник, верно бы, украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о, слог въ. Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии.
Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы; вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» – «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих. Когда-то, в молодости, Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд-майором, но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол; он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него; но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил.
Все эти давние, необыкновенные происшествия заменились спокойною и уединенною жизнию, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу.
Он всегда слушал с приятною улыбкою гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.